Декабрь 2010  12 декабря — 105 лет со дня рождения русского писателя 12 декабря — 105 лет со дня рождения русского писателя
Василия Семеновича Гроссмана (1905 — 1964)
«Вася, ты же Христос» — говорил ему Андрей Платонов. «Я прошу Господа простить меня, если скажу, что Гроссман был святым», — вторил ему Семен Липкин.
В жизни Василия Гроссмана и в самом деле есть все атрибуты жития: гонения и мучительная смерть, неколебимая вера и удивительные чудеса. Подобно тому, как первые мученики христианства были детьми Рима и Иудеи, выкормленные молоком древних религий, и умерли, чтобы их ниспровергнуть, Василий Гроссман был плотью от плоти советского строя. И именно он написал один из самых губительных для этого строя романов, заплатив за свой творческий порыв дорогой ценой. Между тем большую часть жизни Гроссман не верил в Бога вовсе и лишь под конец стал писать это слово как положено — с большой буквы. Да и странно было бы ожидать другого отношения к вопросу от человека с его биографией.
Он родился в Бердичеве 12 декабря 1905 года. Мальчик, рожденный в еврейской семье, получил подобающее имя и отчество — Иосиф Соломонович. Однако на том его вхождение в иудейский мир практически исчерпалось. По-еврейски Гроссман знал лишь несколько слов, слышанных в детстве на улицах Бердичева. Зато прекрасно владел французским: во-первых, его преподавала мама, во-вторых, два года мальчик провел в Швейцарии.
Его библейское имя тоже вскоре было забыто благодаря русской няне. Родительское «Йося» она переделала в русское «Вася», да так прочно, что даже отец с матерью скоро звали сына только Васей. Гроссман начал привыкать к своему будущему литературному псевдониму задолго до того, как стал писателем.
В детстве он о писательстве не мечтал, а, как и множество мальчишек, жаждал унаследовать профессию отца, который работал инженером-химиком на шахтах Донбасса.
Именно в Донбассе, на шахте «Смолянка-2», в 1929 году начал работать и Василий, успевший к тому времени закончить химическое отделение физмата МГУ, жениться, завести ребенка. Брак распался быстро. Но вскоре стало ясно, что он готов расстаться не только с молодой женой, но и с обретенной профессией. В 1933 году он вернулся в Москву, чтобы учиться новому делу — литературе.
Первый настоящий успех помощнику главного инженера карандашной фабрики, коим в 1934 году работал Василий, принес рассказ о беременном комиссаре гражданской войны, рожающей ребенка в осажденном белополяками Бердичеве. «Как прикажете понимать, неужели кое-что путное все-таки удается напечатать?» — воскликнул по поводу появившегося рассказа Михаил Булгаков. Сам же автор рассказа «В городе Бердичеве» в ту пору искренне полагал, что в советской стране только путное и печатают. Гроссман оставил карандашную фабрику и принялся писать.
Четырехстраничный рассказ о комиссаре Вавилове стал пропуском к Горькому. А уже к 1936 году выпустил два сборника рассказов и в 1937-м был принят в Союз советских писателей.
Семен Липкин, подружившийся с Гроссманом в те годы, напишет после: «Когда мы с Гроссманом познакомились, я чувствовал, что он счастлив». Наверное, так в самом деле и было. Высокий, кудрявый, черноволосый и синеглазый Гроссман нравился женщинам. Он любил хорошую выпивку и вкусную закуску, а когда смеялся, на щеках его появлялись ямочки. Рассказы Гроссмана выходили регулярно и тоже нравились. И критикам, и читателям.
И, хотя уже тогда в биографии Гроссмана были некоторые обстоятельства, вполне могущие представлять угрозу не только стремительно начавшейся писательской карьере, но и самой жизни, провидение до поры его берегло.
Дело в том, что крестными Гроссмана в литературе стали Иван Катаев и Николай Зарудин. Именно они принесли в «Литературную газету» оказавшийся столь успешным рассказ. Именно они и группа «Перевал», в которую входили оба, стали первой литературной средой, в которую окунулся Гроссман. В 1937 году перевальцы были уничтожены почти полностью. Но с Гроссманом судьба обошлась иначе.
Незадолго до разгрома «Перевала» Гроссман влюбился в жену одного из своих новых литературных друзей Бориса Губера. Ольга Губер оставила мужа и двух маленьких сыновей и ушла к Гроссману. В 37-м в числе других перевальцев арестовали и Бориса Губера, а вскоре пришли и за его женой. Василий Семенович забрал к себе мальчиков, которых отказывались брать родственники. Он почти год боролся за освобождение Ольги и вытащил ее из тюрьмы.
В биографии Гроссмана нет недостатка в таких историях, полных чистого и совершенно неброского благородства.
На фронте он упорно сторонился охоты за трофеями и стеснялся попросить новую шинель, продолжая три года подряд ходить в одной и той же, совершенно невозможной — изодранной, заляпанной глиной и залитой бензином...
Когда на Пастернака лились потоки грязи, написал ему письмо, полное внимания и теплоты...
И, несмотря на эту щепетильную порядочность, скромность и даже стеснительность Гроссмана, бытовало мнение, что у него тяжелый характер. Гроссман и в самом деле не чурался крепкого слова. С теми, кого не уважал или презирал мог быть колючим, язвительным, упрямым.
И все же самым тяжелым для многих оказывались вовсе не неулыбчивость или язвительность Гроссмана, а как раз его благородство, проба которого была столь высока, что дотянуться до этой планки могли единицы. Недотянувшиеся же утешались рассказами о том, как неуступчив и неуживчив бывает Василий Семенович.
Но главным пострадавшим из-за своего характера всегда был сам Гроссман. Он не позволял себе поступиться порядочностью даже в мелочах, даже в самую тяжелую минуту. Сидя без копейки после изъятия романа «Жизнь и судьба», он получил заказ на перевод романа одного армянского писателя. Но прежде, чем ухватиться за эту работу, предупредил: «Буду переводить, если роман не подлый».
Когда повесть уже стояла в сверстанном номере, цензура попросила убрать единственный абзац, касавшийся истребления евреев во время войны. Гроссман отказался — повесть сняли из набора.
И на фронт он мог не ходить: был освобожден от военной обязанности из-за туберкулеза. Редактор газеты «Красная звезда Давид Ортенберг вообще побоялся вначале отпускать его на фронт. Но близорукий писатель с «топором висевшим пистолетом» наотрез отказывался писать очерки о том, чего не видел, и лез в самую гущу войны.
Блеск и сила его фронтовых очерков были столь очевидны, что Сталин, откровенно не любивший Гроссмана и до войны собственноручно вычеркнувший его из списка претендентов на сталинскую премию, дал распоряжение перепечатать из «Красной звезды» написанную Гроссманом статью «Направление главного удара». Позже слова из этого очерка были высечены на мемориале Мамаева кургана, а статья «Треблинский ад» распространялась отдельной брошюрой в качестве документа от обвинения на Нюрнбергском процессе.
Удивительно, что Гроссман, ушедший на фронт в августе 41-го и демобилизованный осенью 45-го, ни разу не был ранен.
История послевоенной жизни Гроссмана — это история битвы со взбесившимся адским паровозом, который ожесточенно и целенаправленно ездил взад и вперед по его судьбе без малого два десятка лет. То, что Гроссмана не печатали, было половиной беды. Даже опубликованные, его книги подвергались растерзанию. В 1946 году разгромлена пьеса «Если верить пифагорейцам», в 1949-м уничтожен готовый тираж «Черной книги», посвященной геноциду евреев. А в начале 50-х настала очередь романа о Сталинграде «За правое дело», задуманного Гроссманом еще на войне. Сам, своими руками Гроссман кромсал роман в соответствии с указаниями «сверху», вписывал куски о руководящей роли партии и Верховного главнокомандующего.
Журнал «Новый мир» опубликовал «За правое дело» в четырех номерах в конце 1952 года. А спустя положенный срок, после первых хвалебных рецензий, в феврале 1953-го в «Правде» появилась статья Михаила Бубеннова, сровнявшая роман с землей. Тон и напор статей был таков, что Гроссман стал всерьез опасаться ареста и постарался на некоторое время исчезнуть из поля зрения погромщиков. Лишь после смерти Сталина критика немного потеплела к роману. Его издали отдельной книгой несколько издательств подряд. Гроссман получил гонорар. И немедленно засел за вторую часть дилогии «Жизнь и судьба». К концу 1959 года роман был в основном окончен.
Автор отдал рукопись в журнал «Знамя». Полгода стояла звенящая тишина. В один из осенних вечеров 1960 года Заболоцкая и Липкин в один голос посоветовали сохранить экземпляр романа в безопасном месте. Гроссман отдал один экземпляр Липкину, а еще один — своему институтскому другу Вячеславу Лободе. А в феврале 1961 у автора были изъяты машинописные экземпляры, рукопись, все черновики и эскизы, имеющие отношение к «Жизни и судьбе». Экземпляры были изъяты и у машинистки и в редакции «Нового мира», а экземпляр, отданный в «Знамя», органам предоставил сам главный редактор журнала Вадим Кожевников.
Гроссману оставалось жить чуть больше трех лет. За эти годы он смог увидеть в печати только несколько рассказов, «пробитых» с большим трудом. Он пытался спасти «Жизнь и судьбу».
Меньше чем через два года после ареста романа Гроссман заболел. В ночь на 15 сентября1964 года его не стало. Литература 1. Гроссман В. С. Жизнь и судьба : роман / В. С. Гроссман ; авт. предисл. Л. И. Лазарев. — М. : Слово, 1999. — 704 с.
2. Гроссман В. С. Несколько печальных дней : повести и рассказы / В. С. Гроссман ; авт. предисл. Л. И. Лазарев. — М. : Современник, 1989. — 431 с.
3. Некрасов В. Василий Гроссман / В. Некрасов // Литература. — 1995. — № 18. — С. 5.
4. Сарнов Б. Русский писатель Василий Гроссман / Б. Сарнов // Литература. — 1996. — № 18. — С. 5-12 : ил.
5. Святой Василий, не веривший в Бога // Домовой. — 2002. — № 9. — С. 194-201 : ил. 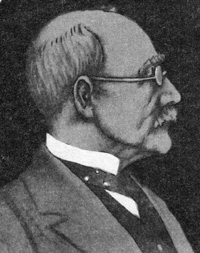 30 декабря — 145 лет со дня рождения английского писателя 30 декабря — 145 лет со дня рождения английского писателя
Джозефа Редьярда Киплинга (1865 — 1936)
В конце XX века английская радиостанция ВВС попросила своих слушателей назвать. На их взгляд, лучшие стихи английских поэтов. Откликнулись тысячи людей. Самым любимым стихотворением оказалось «Заповедь» Редьярда Киплинга. Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех.
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил — жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы — не снисходи до них;
Умей прощать, и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других... В оригинале это стихотворение называется «IF» — ,поэтому некоторые переводчики дают ему название «Если...», так переводится это слово на русский язык. М. Лозинский дал ему название " Заповедь«, исходя из торжественной серьезности тона и содержания.
В наши дни российские читатели знают Киплинга прежде всего по книге о Маугли и по веселой песенке: На далекой Амазонке
Не бывал я никогда.
Только «Дон» и «Магдалина» —
Быстроходные суда
Ходят по морю туда... Есть еще одна широко известная песня, точнее романс из фильма. Поет ее Никита Михалков: Мохнатый шмель — на душистый хмель,
Мотылек — на вьюнок луговой,
А цыган идет, куда воля ведет,
За своей цыганской звездой!.. Правда, почему-то никогда не говорят, что этот романс написан на стихи Киплинга, а перевод — Г. Кружкова.
Редьярд Киплинг родился в Бомбее в семье скульптора. В Индию его отец отправился с молодой женой в поисках постоянного заработка. До шести лет мальчик жил в дружной семье, в родном доме, где его воспитанием занимались индийские няни и слуги.
Чтобы Редьярд хорошо знал родной язык, его и его маленькую сестренку отправили в Англию, в частный пансион. Эту пору своей жизни писатель назвал «Домом отчаяния». Хозяйка этого «Дома» невзлюбила независимого мальчика и постоянно издевалась над ним. Однажды эта хозяйка за какую-то провинность повесила мальчику на грудь надпись «лгун» и заставила так ходить по школе. Нервы его не выдержали, и он тяжело заболел. Приехала мать и забрала его и сестренку из пансионата.
С 1878 по 1882 год Редьярд учился на другом конце Англии в мужской школе с железной дисциплиной, телесными наказаниями, дедовщиной и прочими традиционными пороками закрытых учебных заведений. Здесь он проникся уважением к Порядку и Дисциплине, которые потом он будет воспевать. Об этих годах он рассказал в книге «Стоки и компания».
В семнадцать лет Редьярд решил, что будет писателем. Для начала он становится колониальным газетчиком. Пишет репортажи о войнах и эпидемиях, ведет светскую хронику, берет интервью у самых разных людей. Он слывет знатоком местных обычаев и нравов, мнением его интересуется даже британский главнокомандующий граф Робертс Кандагарский.
Киплинг одновременно начал писать стихи и прозу. Известность к нему пришла сразу же после первых публикаций. В Англии в те годы популярны были книги, написанные на экзотическую тему — «Остров сокровищ» Стивенсона, «Копи царя Соломона» Хаггарда. Так что произведения Киплинга оказались кстати.
И в стихах, и в прозе Киплинг воспевает мужество, энергию, преданность, стойкость. Для Киплинга важно, прежде всего, дело, свершения человека, а не его внутренний мир. Его герои подчас предельно просты: бескорыстные труженики, солдаты. Он уважает их труд, их подвиг.
Киплинг никогда не принижал, не отрицал достоинств азиатской культуры. Он терпеливо пытался понять внутренний закон Востока, пытался расшифровать его код. Лучший роман Киплинга «Ким» как раз повествует об этом, главный герой мечется между восточной и западной системами ценностей, в конечном итоге выбирает Запад, но тоскует по Востоку.
Одна из основных и даже первая тема творчества Киплинга — это тема Империи. Он считает, что только в Империи человек остается истинным христианином, только Империя укрепляет Веру и хранит Веру. Империи дано нести низшим расам ради их собственного блага «великие цели». Завоевание новых колоний он видит как бескорыстную жертвенность, как «бремя белых», как служение, как исполнение нравственного Закона.
Киплинг много путешествует — Китай, Япония, Америка, Австралия, Африка. В 1890 году возвращается в Англию. Потом будет жить на родине своей жены в США, в штате Вермонт. За четыре года, прожитые в Америке, Киплинг создал лучшие свои произведения. Это рассказы, вошедшие в сборники «Масса выдумок» и «Труды дня», стихи о кораблях, о море и моряках-первопроходцах, собранные в книге «Семь морей». А однажды в 1894 году американская писательница для детей Мэри Элизабет Мейпс Додж, автор популярной книги «Серебряные коньки», попросила Киплинга написать об индийских джунглях. Воспоминания юности целиком захватили писателя. Вскоре была готова первая «Книга джунглей», главную часть которой составляли рассказы о Маугли. Успех книги был столь велик, что автор сразу по горячим следам создал вторую «Книгу джунглей».
В 1902 году, после поездки корреспондентом на войну в Южную Африку, Киплинг навсегда поселяется в Англии.
В начале века Киплинг вел активную политическую деятельность, выступал в поддержку консерваторов и против феминизма, предупреждал о грозящей войне с Германией.
В 1907 году Киплинг первым из англичан был удостоен Нобелевской премии по литературе. Сразу после получения премии писателя избрали почетным доктором Оксфордского, Кембриджского, Эдинбургского и Даремского университетов. Его наградили университеты Парижа, Страсбурга, Афин и Торонто.
Отныне Киплинг стал получать легендарные гонорары — шиллинг за слово. Каждое его слово стоило на наши деньги пятьдесят копеек золотом. Тот же Диккенс не зарабатывал и десятой доли таких денег.
Почему так ценилось творчество Киплинга? Прежде всего, по причине его необычайного влияния на английского читателя, в первую очередь на военных. По многочисленным свидетельствам современников, вплоть до Первой мировой войны большинство британских офицеров старательно имитировали стиль жизни и строй речи мужественных героев из рассказов «железного Редьярда», а воспетые им англо-индийцы изо всех сил пытались соответствовать своему «неоромантическому» изображению, льстившему их провинциальному самолюбию.
Казалось, наступило время спокойной богатой жизни. Но началась Первая мировая война. Киплинг с женой стали работать в Красном Кресте. А в 1915 году ушел служить в полк Ирландских гвардейцев и пропал без вести единственный сын писателя. С этого времени жизнь Редьярда Киплинга словно замерла.
Но война окончилась, и Киплинга потянуло в путешествие. Особенно часто он ездил в Европу как член Комиссии по военным захоронениям. Во время одной из таких поездок во Францию в 1922 году поэт познакомился с английским королем Георгом V. Так началась их большая многолетняя дружба. В этот период писатель примкнул к правому крылу консервативной партии.
Многолетняя компания демократической общественности Европы по компрометации писателя в конце концов дала свои плоды. Несмотря на то, что последние десятилетия жизни Киплинг много писал, массовый читатель отвернулся от него. «Прогрессивной» критикой было объявлено, что его творчество безнадежно устарело.
С 1915 года писатель страдал от гастрита, который в последствии перерос в язву. Скончался Киплинг в Лондоне в 1936 году от кишечного кровотечения.
Длительное время «общественность» пыталась замолчать творчество Киплинга, надеялись, что имя писателя сотрется из человеческой памяти. Только во второй половине XX века он был признан классиком мировой литературы. Сегодня, пожалуй, нет в образованных странах мира человека, кто бы не знал героев произведений «великого империалиста». Литература 1. Анастасьев Н. Пророк и поэт / Н. Анастасьев // Литература. — 2000. — № 33. — С. 14-15.
2. Еремин В. Н. Сто великих поэтов / В. Н. Еремин. — М. : Вече, 2005. — 480 с. — (100 великих).
3. Калюжная Л. С. Сто великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. — М. : Вече, 2004. — 592 с. — (100 великих).
4. Киплинг Р. Д. Восток есть Восток : рассказы, путевые заметки, стихи : пер. с англ. / Р. Д. Киплинг ; авт. предисл. Е. Гениева. — М. : Художественная литература, 1991. — 462 с.
5. Киплинг Р. Д. От моря до моря / Р. Д. Киплинг ; авт. предисл. Д. М. Урнов. — М. : Мысль, 1983. — 239 с. : ил., карт.
6. Клех И. Маленький «железный Редьярд» / И. Клех // Литература. — 2008. — № 12. — С. 27-32 : ил.
7. Перемышлев Е. Каменщик и король / Е. Перемышлев // Литература. — 1996. — № 22. — С. 2-3.
 5 декабря — 190 лет со дня рождения русского поэта 5 декабря — 190 лет со дня рождения русского поэта
Афанасия Афанасьевича Фета (1820 — 1892)
На протяжении почти ста лет — половина XIX века и первая половина XX — вокруг творчества Афанасия Афанасьевича Фета шли нешуточные бои. Если одни видели в нем великого лирика и удивлялись, как Лев Толстой: «И откуда у этого... офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов...», то другие, как, например, Салтыков-Щедрин, видели поэтический мир Фета «тесным, однообразным и ограниченным».
Афанасий Афанасьевич Фет родился по одним документам 29 октября 1820 года, по другим — 29 ноября в селе Новоселки близ Мценска. Сам поэт отмечал свой день рождения 23 ноября (5 декабря).
История его рождения столь запутана, что вряд ли кому доведется в ней разобраться, а сама по себе проблема необычайно важна для отечественной литературы, поскольку именно она предопределила жизнь, судьбу и творчество одного из величайших поэтов России.
Мать мальчика Шарлотта Беккер происходила из старинного восточногерманского дворянского рода. В 1818 году она вышла замуж за Иоганна Фета, германского окружного асессора из Дармштадта. В начале 1820 года в Дармштадт приехал на излечение родовитый, но обедневший помещик Орловской губернии Мценского уезда Афанасий Неофитович Шенкин. Участник войны 1812 года, некрасивый, в возрасте. Он страстно полюбил Шарлотту Фет, выкрал ее и увез в Россию. Женщина в то время была беременна. Все биографы сходятся на том, что отцом великого поэта Шенкин не был. Но и Иоганн Фет в завещании не признал мальчика своим сыном.
До четырнадцати лет Афанасий Шенкин-младший рос как обыкновенный русский барчук. В конце 1834 года жизнь резко изменилась. Епархиальному начальству доложили, что сын Шенкина является внебрачным ребенком. Чиновникам немедленно потребовалось «восстановить справедливость». Если бы Шенкин был богатым могущественным вельможей, проблем не возникло бы. Ради дальнейшего благополучия семьи Афанасий Неофитович был вынужден пожертвовать старшим сыном. Он увез Афанасия сначала в Москву, затем в Петербург. Далее, посоветовавшись с влиятельными приятелями, он отправил мальчика в глухой лифляндский городишко Верро, где Афанасия определили на учебу в «частное педагогическое заведение».
В начале 1835 года Орловская духовная консистория постановила считать отцом мальчика не Шенкина, а уже умершего Иоганна Фета. Одновременно с фамилией молодой человек потерял права на столбовое дворянство, на отцовское имение, на российскую принадлежность. Отныне он считался гессен-дармштадским подданным, иностранцем, пришельцем и разночинцем.
В 1837 году теперь уже Афанасий Фет приехал в Москву и потупил на философский факультет университета. Числился он студентом из иностранцев, и учиться ему пришлось не четыре года как положено, а шесть лет. Как признавал позже сам Фет, у него неожиданно пробудился поэтический дар, и вместо того чтобы ходить на лекции, он целыми днями писал стихи. В 1840 году вышел первый сборник его стихотворений «Лирический пантеон».
В период с 1842 — 1843 годов в «Отечественных записках» и «Москвитянине» было опубликовано в общей сложности 85 стихотворений Фета. Талант начинающего поэта был отмечен Н. В. Гоголем.
Но в 1844 году жизнь Афанасия Афанасьевича в очередной раз резко изменилась. В начале умерла мать, а затем ушел из жизни дядя Петр Неофитович Шенкин. Афанасий Фет остался без средств к существованию. Выход у него оставался один — пойти служить в армию.
Фет принял русское подданство и спустя месяц был произведен в корнеты. Через год поэт получил офицерский чин, первый в длинной череде выслуги для приобретения со временем дворянства.
В 1853 году Фета перевели в гвардейский уланский полк, который на летних сборах располагался в Красном Селе. Это дало поэту возможность познакомиться с И. С. Тургеневым, а через него — с издателями и авторами «Современника»: Некрасовым, Пинаевым, Гончаровым, Дружининым, Григоровичем, Анненковым, Боткиным, позднее с Львом Толстым. Вскоре Фет стал в «Современнике» своим человеком, но относились к нему со снисходительностью, как к человеку небольшого ума. С помощью «Современника» Фет издал в 1856 году сборник стихотворений, который имел огромнейший успех.
В 1857 году Фет вышел в отставку и переехал жить в Москву. Весной этого же года женился на Марии Петровне Боткиной, дочери известного купца-чаеторговца и сестре Василия Боткина, известного писателя, критика, близкого друга Белинского, друга и ценителя Фета. Но этому предшествовала трагическая любовь, которая на всю жизнь оставила след в сердце поэта. Во время армейской службы на Украине поэт познакомился с Марией Лазич. Это была высокообразованная девушка, талантливая музыкантша, чья игра вызвала восхищение у гастролировавшего тогда на Украине Ференца Листа. Она была страстной поклонницей поэзии Фета и полюбила его самозабвенно. Но Фет не решился жениться на этой девушке, потому что тогда не имел возможности содержать семью. И так получилось, что Мария Лазич в этот момент трагически погибла. Фет потом всю жизнь в стихах возвращался к образу этой девушки.
В 1860 году Фет купил в Мценском уезде Орловской губернии степной хуторок Степановку, который при его деловитом хозяйствовании быстро преобразился в богатейшую усадьбу. Вскоре Фет превратился в страстного накопителя, занятого мыслями, прежде всего о приумножении и без того уже немалого состояния. Росла его слава как выдающегося землеустроителя, прекрасного хозяйственника, позволявшего разбогатеть и крестьянину, и самому себе. Любопытно, что в канун реформ 1861 года Фет прославился на всю страну как яростный защитник старых порядков.
Среди соседий-помещиков Фет становился все более уважаемым лицом. Выражением этого были выборы его в 1867 году на должность мирового судьи, в которой он оставался целых 17 лет.
Росла и слава поэта Фета. В 1860-х годах шла ожесточенная борьба между революционными демократами и литературно близкими Фету либералами. Поэт занял позицию — антиреволюционную и антилиберальную. Вопреки Некрасову Фет заявил, что поэт не обязан быть гражданином.
В 1863 году поэт выпустил новое собрание своих стихотворений, которое новое демократическое поколение не приняло. Такое отношение читающей публики ввергло поэта в длительный творческий кризис. Он на долгие годы умолк, перестал публиковать свои стихи.
Только в 1881 году Фет неожиданно вернулся в литературу. Вначале как переводчик. Им был издан перевод главного труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление», затем последовали «Фауст» И. В. Гете, сочинения Горация, «Сатиры» Ювенала, «Семела» Шиллера, «Дюпон и Дюран» Мюссе и др.
После долгого перерыва Фет вновь стал создавать оригинальные стихотворения. Они публиковались выпусками под названием «Вечерние огни».
В 1890 году вышли в свет два тома мемуаров «Мои воспоминания»; третий том «Ранние годы моей жизни» был опубликован посмертно в 1893 году.
Последнее дошедшее до потомков стихотворение Фета датировано 23 октября 1892 года.
Другом и поклонником Афанасия Фета был великий князь Константин Константинович Романов, известный в русской литературе поэт, издававшийся под псевдонимом «К. Р.». Его хлопотами в 1889 году к пятидесятилетнему литературному юбилею поэта новый император Александр III пожаловал Фету звание камергера.
Подобно его рождению смерть Фета окутана покровом тайны. Официально было объявлено, что поэт умер от застарелой «грудной болезни», осложненной бронхитом. Литература 1. Бухштаб Б. Я. Фет А. А. : очерк жизни и творчества / Б. Я. Бухштаб. — 2-е изд. — Л. : Наука, 1990. — 138 с.
2. Еремин В. Н. Сто великих поэтов / В. Н. Еремин. — М. : Вече, 2005. — 480 с. — (100 великих).
3. Калюжная Л. С. Сто великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. — М. : Вече, 2004. — 592 с. — (100 великих).
4. Клишин О. «Крылатый слова звук» / О. Клишин // Звезда. — 2007. — № 8. — С. 198-201.
5. Кошелев В. А. «...Сказаться душой...» / В. А. Кошелев // Литература в школе. — 1995. — № 3. — С. 8-15.
6. Маймин Е. А. Афанасий Афанасьевич Фет : кн. для учащихся / Е. А. Маймин. — М. : Просвещение, 1989. — 159 с. Информацию подготовил .
 наверх наверх
|
