Август 2010  22 августа — 90 лет со дня рождения американского писателя 22 августа — 90 лет со дня рождения американского писателя
Рэя Брэдбери (1920-)
Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года в Уокигане, штат Иллинойс. Предки его отца обосновались на новом континенте еще в 1630 году. Его мать по национальности была шведкой, так что по материнской линии Рэй Дуглас вполне может считать себя потомком викингов.
Радостное удивление — пожалуй, именно этими словами можно описать мироощущение многих произведений Брэдбери, посвященных детству. Кажется, что он никогда не переставал играть с этим миром.
Но его воображение будоражили и детские страхи. В раннем биографическом эссе он писал: «Среди моих первых воспоминаний есть и такие: я поднимаюсь ночью по лестнице и вижу мерзкое чудовище, поджидающее меня на предпоследней ступеньке. Я вскрикиваю и бегу изо всех сил к маме. Затем мы поднимаемся по лестнице вместе с ней. Чудовище неизменно прячется. Маме так ни разу не удалось его увидеть. Временами мне было даже обидно, что ей не хватает воображения... Все первые десять лет моей жизни призраки, скелеты и прочие детские страхи постоянно квартировали в моей голове».
Но в этой голове квартировали не только детские страшилки — с самого раннего детства у Рэя была неодолимая тяга к волшебному вымыслу. Он с упоением слушал, как мама читала ему «Волшебника страны Оз», и с точно таким же восторгом внимал тетушке, которая сказкам предпочитала Эдгара По. Взрослые брали мальчика с собой в кино, где он смотрел «Призрак оперы» и «Затерянный мир». Однажды он попал на выступление знаменитого иллюзиониста Блэкстона. Магия произвела на Рея совершенно неизгладимое впечатление. Он захотел стать фокусником.
В 1928 году мир восьмилетнего Рэя повернулся раз и навсегда — совершенно случайно к нему в руки попал номер толстого ежеквартального журнала фантастики. С этого момента жизнь Рэя пошла в строго предопределенном направлении. Впрочем, пока он об этом еще не догадывался.
Но рок уже разгонял маховик его судьбы. В 1932 году бедствия Великой депрессии сорвали семью Брэдбери с места. Из Иллинойса они переехали в Аризону, а затем в Лос-Анджелес. К этому времени Рей превращается в полноватого очкарика. Традиционного школьного изгоя, которого сверстники никогда не зовут играть в бейсбол. Что ему остается? Только чтение. И фантастические рассказы, порожденные его воображением... В сентябре 1937 года Брэдбери случайно попадает на заседание местного отделения Научно-фантастической лиги. Именно на том заседании кто-то вручил ему первый номер самодеятельного клубного журнала, где были опубликованы рассказы и статьи членов Лиги. Брэдбери вдруг осознал, в таком журнале могли бы публиковаться и его рассказы. Его первая фантастическая публикация состоялась уже через четыре месяца — в 1938 году в очередном выпуске журнала.
Тогда же клубная жизнь познакомила Брэдбери и с некоторыми писателями-профессионалами из Лос-Анджелеса. На заседания Лиги приходили Генри Каттнер, Артур Барнс, Ли Бреккет, Роберт Хайнлайн. Энергичный и ненасытно жаждущий общения улыбчивый молодой человек временами пугал их своей импульсивностью, а уж бесконечными расспросами о том, как стать профессиональным и успешным писателем мог довести просто до белого каления.
К тому времени он как раз закончил школу и принялся искать, чем заняться во взрослой жизни. Театр? Графика? Литература?
Любительские журналы, привыкшие получать от Брэдбери легкие хохмы, серьезные его рассказы брали не слишком-то охотно. Но из этой ситуации выход был найден. Летом 1939 года Брэдбери выпустил первый номер своего собственного фэнзина «Futuna Fantasia». В этом журнале ему, как правило, в публикациях не отказывали. С подготовкой первого номера (всего у Брэдбери вышло четыре выпуска) совпало первое и последнее политическое затмение, постигшее будущего классика — он увлекся идеями технократии. В 1930-х годах это было весьма модное поветрие. Брэдбери игрался с технократической утопией не долго — в первых номерах ей уделялось довольно много места, но постепенно тема сошла на нет. Публиковать фантастические рассказы ему было интереснее, чем социальные прожекты.
В 1942 году Брэдбери решил, что хватит с него «газетной» работы. Он выбрал из своих рукописей все, что можно читать без риска для рассудка, и отправился в Нью-Йорк. Брэдбери засел за машинку и принялся писать — один рассказ за другим, не давая себе ни малейшей поблажки и выдавая текст десятками страниц в день. Но ни один из этих рассказов не был принят ни в одном журнале фантастики. Но он упорно продолжал искать свой «голос», и монолитная суровость редакторов стала давать трещины.
К середине 1943 года его упорство принесло первые успехи. Его рассказы стали регулярно появляться в «Weind Tales», реже — в других изданиях, менее значимых. Самым известным журналом фантастики оставался «Astounding» Джона Кэмпбелла — тот первым читал каждый новый рассказ, но не проявлял ни малейшего желания их публиковать. Такая фантастика ему не подходила.
Поэтому Брэдбери мало-помалу стал дрейфовать в сторону литературы ужасов. Детские страхи были ему памятны, и его пишущая машинка превращала их в стильные и необычные истории. А в 1947 году вышел авторский сборник «Темный карнавал», вышел и разошелся довольно большим тиражом.
Но, конечно, для мира «большой» литературы это пока еще не было Большой Книгой. Но стена жанрового загона была сломлена. Рассказы Брэдбери постепенно стали расходиться по детективным журналам, журналам мистики, да и по части научной фантастики наметился прорыв. Прозой Брэдбери заинтересовались «внежанровые» популярные журналы, а затем предложения стали приходить и от престижных «New Yorker» и «Yarper’s».
Брэдбери вырос на фантастике, он был ее прямым литературным потомком, ее следующим поколением и ее гордостью. Но мир фантастики теперь уже не был единственным доступным для него миром. Теперь для него были открыты все пути. При этом его любимая фантастика по-прежнему оставалась с ним, но самим своим существованием он сумел изменить и ее саму, и ее восприятие «внешним миром». О его прозе спорили серьезные критики. Его книги выпускали крупнейшие издательства. Его приглашали писать сценарии для Голливуда...
Мальчик, запоем читавший «Принцессу Марса», теперь написал «Марсианские хроники».
Преисполненный восторга подросток, любовавшийся в цирке на живые диковинки, создал «Человека в картинках».
Юноша, увлекавшийся технократическими идеями, стал автором ярчайшего «антитехнократического» романа «451? по Фаренгейту».
Писатель, прежде зарабатывавший на жизнь рассказами ужасов, вырастил «Золотые яблоки солнца»...
В 1950 году, когда вышли «Марсианские хроники», Рэю Брэдбери было всего тридцать лет. Впереди были долгие годы жизни, увлекательной работы, неизменного успеха, неувядающей популярности. Премии, переводы на все языки, признание современников, слава живого классика... Литература 1. Бережной С. Живые машины времени, или Рассказ о том, как Брэдбери стал Брэдбери / С. Бережной // Книжное обозрение. — 2005. — № 35. — С. 3, 10 : портр.
2. Брэдбери Р. Фантастика Рэя Брэдбери / Р. Брэдбери : авт. предисл. Е. Романова. — М. : Экология, 1992. — 300 с.
3. Мендельсон М. О. Американская сатирическая проза XX века / А. О. Мендельсон. — М. : Наука, 1972. — 370 с.
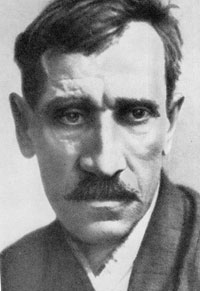 23 августа — 130 лет со дня рождения русского писателя 23 августа — 130 лет со дня рождения русского писателя
Александра Степановича Грина (1880 — 1932)
В нем все противоречило, так же, как была противоречива его сложная и изломанная жизнь, жизнь трудная и странная. Природа, обделив его внешней красотой: длинное, худощавое, вечно угрюмое лицо с глубоко посаженными темными глазами, выражающими раздражение, — дала ему взамен красивую и мятежную душу романтика и мечтателя.
Именно таким был писатель Александр Грин, открывший мир прекрасных надежд и несбыточных желаний, подаривший нам Ассоль, Грэя, Друда, Гнора, Нока, Биче, Гарвея и Фрэзи Грант, чудесную «Бегущую по волнам», которая на протяжении вот уже восьмидесяти лет будоражит сердца читателей, зовя их в неизведанную страну Мечты и Любви.
А начиналось все так прозаично...
Детство Александра Гриневского прошло в Вятке. Отец поляк, потомственный шляхтич, сосланный в Сибирь за участие в польском восстании, мать из мещан Вятской губернии. Семья достатком не отличалась, однако и особой нужды не испытывала.
Органическое неумение подчиняться было присуще Саше Гриневскому с детства. Он то уходил на целый день в лес, то целые вечера просиживал в читальном зале. Все вместе привело к тому, что его исключили из реального училища. С большим трудом отцу удалось устроить сына в другое учебное заведение. Его Александр все-таки закончил в 1896 году, а, получив аттестат, неожиданно собрался к морю, в Одессу.
Никогда не выезжавший из Вятки Александр отправился в путь, мечтая о том, как устроится матросом на корабль и совершит на нем кругосветное путешествие.
Одесса встретила юношу неприветливо. С превеликим трудом ему удалось устроиться на судно, ходящее в каботаже между портами Черного моря, потом был рейс в Александрию... Вместо романтических приключений — тяжкая, на пределе сил работа, брань самодура-боцмана. Александр решает уехать обратно в Вятку. Он возвращается домой с разбитым сердцем и разбитыми мечтами. Карьера моряка не удалась.
Вернувшись, Александр сразу же устроился на работу в железнодорожные мастерские, к тому же еще и подрабатывал, переписывая роли для театра, а летом плавал по Волге на барже.
Так буднично и серо и продолжалось бы дальше, но в 1902 году жизнь Александра круто изменилась: он познакомился с эсерами и активно включился в политическую борьбу. Как агитатор Гриневский переезжал из города в город — Симбирск, Нижний Новгород, Тверь, Саратов, Тамбов. В ноябре 1903 года Гриневского арестовали за злонамеренные речи среди солдат Севастопольского гарнизона. В феврале 1905 года состоялся суд, и Гриневский был осужден на десять лет ссылки в Сибирь. Но выслать его не успели — спасла первая русская революция, и Александр был освобожден вместе со всеми политзаключенными. Оставив Севастополь, он сразу же уехал в Петербург. Именно здесь, в Петербурге начинается его литературная деятельность. Все пережитое, множество впечатлений от встреч с самыми разными по духу и сословию людьми, новые ощущения, рожденные бурными революционными событиями, требовали выхода и просились на бумагу.
Так появились первые рассказы («Заслуга рядового Пантелеева», «Слон и Моська», «Случай»), подписанные псевдонимом «А. С. Грин». В них уже чувствовался настоящий мастер. Вскоре о Грине как о молодом писатели заговорили в литературных кругах.
Так начался путь в литературу. Поначалу он выглядел удачным: в 1908 году сборник рассказов «Шапка-невидимка», всего семь лет спустя — трехтомное собрание сочинений.
Столь же стремительной оказалась и эволюция творчества: от вполне реалистических рассказов к произведениям романтическим, совершенно не русским. Герои новых произведений («Остров Рено», «Колония Ланфиер», «Пролив бурь» и др.) стремительно отплывали от российских берегов. Рассказы были необычайно ярки, неожиданны по фабуле. Но вот что писал дореволюционный критик: «В бульварной занимательности Грину отказать нельзя, но настоящих живых людей у него нет и, вероятно, не будет».
Наступил 1914 год, и началась Первая мировая война. Грин оказался в трудном положении: его рассказы, от которых веяло экзотикой, печатались неохотно, журналы требовали писать о войне, и ему приходилось выдавать «пятирублевую продукцию», как он сам выражался, чтобы как-то выживать. «Я желал бы писать только для искусства, но меня заставляют, меня насилуют. Мне хочется жрать...»
Летом 1919 года Грина призывают в Красную Армию. Но тиф, косивший бойцов, свалил и его. После довольно продолжительной болезни он вышел из больницы и оказался без пристанища, без работы, без пайка.
Узнав о трудностях молодого писателя, на помощь приходит Максим Горький. Он выхлопотал для Грина паек, рекомендовал в члены Дома искусств, где Грину предоставили отдельную комнату, и заказали две книги — одну о Ливингстоне, другую — о походе Нансена.
Втянувшись в работу над этими книгами, Грин параллельно продолжал писать рассказы и закончил свою знаменитую феерию «Алые паруса». Многие были удивлены: как можно было в суровом и голодном 1921 году создать такую светлую сказку, своеобразный гимн «романтике человеческих отношений»?!
«Алые паруса» не сразу нашли своего издателя — слишком необычной и даже ненужной казалась в то время эта повесть. Она была напечатана только в 1923 году.
Подобное «неприятие и непонимание» Грина продолжалось очень долго: от него ждали рассказов об окружающей действительности, о советских людях, а он жил в своем выдуманном мире и писал сказочно-фантастические произведения, искренне веря, что романтика будет жить всегда, независимо от войн и революций.
И хотя его не понимали, Грин продолжал усиленно работать. Вслед за «Алыми парусами», в том же году, появился роман «Блистающий мир», потом «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога в никуда».
Почти каждый год по роману, и множество самых разных по стилю и сюжету рассказов! Откуда брались силы, в чем черпал он свое вдохновение?
Грин считал, что если нельзя показать людям красивую быль, им нужно рассказать красивую сказку, чтобы зажечь их — ведь в каждом человеке заложено столько хорошего! Увлеки его красивой сказкой — и он сможет сделать красивой быль.
Последние дни Грина были трудными и безысходными. Жизнь, казалось бы, замыкала трагический круг. Непосильный труд и лишения подорвали и без того слабое здоровье писателя. Он тяжело заболевает и спустя два года после переезда в Старый Крым умирает.
Творчество Грина часто недооценивали. Его уход от действительности, бегство в чудесную сказку многие считали проявлением слабости, тогда как для писателя это было единственной возможностью выжить. Его произведения пронизаны ярким солнечным светом, наполнены криками чаек, гулом морского прибоя и шелестом листвы, согреты человеческим теплом и искренностью.
Все то, о чем Грин страстно мечтал, и что не мог получить в реальной жизни, он поместил в свои рассказы и романы. «Пережить, значит прожить», — эта фраза, пожалуй, могла бы стать девизом писателя — неисправимого романтика и мечтателя. Литература 1. Беспалова И. Человек, подаривший мечту / И. Беспалова // Смена. — 2008. — № 3. — С,140-147 : ил.
2. Вдовин А. Миф Александра Грина / А. Вдовин // Урал. — 2000. — № 8. — С. 172-178.
3. Кабаков М. Необходимый Грин / М. Кабаков // Литература. — 1995. — № 42. — С. 7.
4. Менделеева Д. «Возвращение в ад» Александра Грина / Д. Менделеева // Литература. — 2004. -№ 23. — С. 9-15; 19-24 : ил.
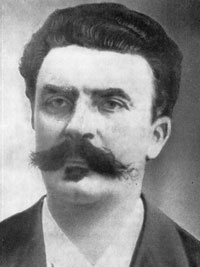 5 августа — 160 лет со дня рождения французского 5 августа — 160 лет со дня рождения французского
Ги де Мопассана (1850-1893)
Анри Рене Альберт Ги де Мопассан родился на северо-западе Франции, в Нормандии в семье обедневшего дворянина.
По отцовской линии Мопассан происходил из обедневшего дворянского рода. Отец писателя обладал репутацией изысканного дворянина, мота и волокиты, но вместе с тем любил искусство, писал акварели, выставлял их, водил дружбу с художниками. Под влиянием отца у Мопассана развился вкус к изобразительному искусству: он рисовал, ценил общество художников, интересовался вопросами живописи и архитектуры.
Мать Мопассана, тонкая ценительница литературы, горячая поклонница и друг автора «Госпожи Бовари», поощряла первые литературные опыты своего сына, руководила его чтением, а впоследствии передала его заботам и попечению Флобера.
Свое образование Мопассан начал в духовной семинарии, откуда был изгнан. После окончания в 1870 году Руанского лицея поступил на армейскую службу и принял участие во франко-прусской войне. После войны, не имея средств, долгих восемь лет прослужил чиновником со скудным жалованьем. Единственной отдушиной были гребной спорт на Сене и стихи, которые начал сочинять еще в лицейские годы.
Мопассану очень повезло. Его учителями становятся Луи Булье и Гюстав Флобер. «Два человека своими простыми и вдохновляющими поучениями дали мне эту силу вечно дерзать...», вспоминал впоследствии благодарный писатель.
У Флобера он познакомился с известными писателями: Эмилем Золя, Альфонсом Доде, Эдмоном Гонкуром, Ипполитом Тэном, Иваном Тургеневым. Дружба с Тургеневым оказала большое влияние на развитие молодого Мопассана. Он посвятил русскому писателю свой первый сборник новелл «Заведение Телье».
Мопасссан не обладал огромной эрудицией Флобера, но поражал последнего своими способностями. Учитель предсказал ученику, что как только тот найдет свой путь, «будет производить свои новеллы, как яблоня — яблоки». И действительно, творческая продуктивность Мопассана беспримерна. После колоссального успеха дебютной «Пышки» всего за десять лет, с 1880 по 1890 год, он создал все свои 29 книг. Среди них шесть романов: «Жизнь», «Милый друг», «Монт-Ориоль», «Пьер и Жан», «Сильна как смерть», «Наше сердце». Сборники новелл издавались ежегодно, а иногда и по нескольку книг в год. После «Заведения Телье» вышли: «Мадемуазель Фифи», «Дядюшка Милон», «Избранник госпожи Гюссон», «Бесполезная красота» и другие. Наряду с этим писались книги путевых очерков: «Под солнцем», «На воде», «Бродячая жизнь», а также критические статьи, очерки, эссе.
Критика упрекала Мопассана, что в его произведениях слишком много проституток и публичных домов. Он отвечал, что это «соответствующая реакция на предшествующий чрезмерный идеализм». Воспитанник Флобера, он сразу вошел в натуралистическое литературное направление, которое пришло на смену угасающему романтизму. К тому же это направление как нельзя лучше соответствовало и натуре писателя. Андре Моруа писал: «Он был нормандцем по линии матери, по месту рождения, по воспитанию... нормандцы считают себя реалистами и людьми недоверчивыми... Жизнь такова, как она есть, природа сурова и враждебна. И не следует быть простофилей. Мопассан, как и Флобер, станет пессимистом, мизантропом и насмешником. Страдание, на его взгляд, в жизни неотвратимо».
В произведениях Мопассана нет никакой «морали», авторского назидания, поучения. Он считал, что художник, описывая жизнь, должен оставаться бесстрастным, отвлеченным
Через пять лет после «Пышки» Мопассан уже находился в зените славы, не только во Франции, но и в мире. Он сразу же стал самым переводимым на другие языки писателем. Его наперебой залучали к себе самые модные салоны Парижа. Знатные дамы искали с ним знакомства, осыпали комплиментами, обсуждали рукописи и считывали гранки. Когда очередная соискательница дружбы с молодым писателем приглашала его в гости, он важно доставал записную книжку и как министр назначал день и час.
При таком дамском ажиотаже неизбежен вопрос: был ли он хорош собой? «Маленький и толстый, с красной физиономией, с налитыми кровью глазами, по существу уродливый, но очень умный. Он шепелявит, но манера его разговора столь обаятельна, что скоро забываешь о том, что он страдает дефектом речи. Он неухожен, плохо одет и носит отвратительные старые галстуки». Этот портрет набросала госпожа Леконт дю Нуи, соседка писателя в курортном местечке Этрета, автор популярного в свое время романа «Дружба влюбленных».
Вместе с большой славой пришли и большие деньги. Мопассан приобрел несколько домов, путешествовал — на Корсику, в Сицилию, Тунис, Марокко, завел яхту с названием «Милый друг». Его парижская квартира, по примеру нового друга Дюма-сына, была обставлена вычурной мебелью в стиле Генриха II.
С тридцати пяти лет Мопассана терзали частые мигрени и невралгические боли, он вынужден был бросить спорт, стал слепнуть. В 1890 году начала развиваться «мания величия». А через пару лет, 7 января 1892 года — после попытки перерезать себе горло — в смирительной рубашке он был доставлен в психиатрическую клинику доктора Бланша. Увы, сказались и плохая наследственность, и природная сверхчувствительность, которую он нещадно эксплуатировал как писатель. Мопассан находился в лечебнице восемнадцать месяцев, рассудок к нему так и не вернулся. Писатель скончался 6 июля 1893 года в возрасте сорока трех лет. Литература 1. Данилин Ю. Жизнь и творчество Мопассана / Ю. Данилин. — 2-е изд., доп. — М. : Художественная литература, 1968. — 255 с, : портр.
2. Калюжная Л. С. Сто великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. — М. : Вече, 2004. — 592 с. — (100 великих).
3. Лебовски Х. Ги де Мопассан: в огне желания / Х. Лебовски // Караван историй. — 2006. — № 9. — С. 268-283 : ил.
 10 августа — 115 лет со дня рождения русского писателя 10 августа — 115 лет со дня рождения русского писателя
Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958)
В конце 20-х — начале 30-х годов Михаил Зощенко был — без преувеличения — самым знаменитым русским писателем. Он автор множества юмористических и сатирических рассказов и миниатюр, в которых создал образ комического героя-обывателя с убогой моралью и примитивным взглядом на окружающую действительность.
Биография самого Михаила Зощенко столь богата неожиданными перипетиями судьбы, что иначе как с чувством юмора и иронией относиться сам к себе он, пожалуй, и не мог. Не случайно он избирает форму рассказа, где автор, герой и рассказчик выступают как бы в одном лице.
Будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, Зощенко в 1914 уходит добровольцем на первую мировую войну. Был ранен, отравлен газами, демобилизован в чине штабс-капитана. В 1918, опять же добровольно, поступает на службу в Красную Армию, откуда спустя год его отчисляют по состоянию здоровья. Жить было не на что, и молодой Зощенко пробует себя сапожником, актером, телефонистом, даже агентом уголовного розыска и следователем. Изначального опыта Михаил Зощенко набирался в литературной группе «Серапионовы братья», и уже первая книга «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова» принесла ему славу.
Судьба уготовила Зощенко особую роль в истории русской литературы. Своим творчеством в 1920-х годах он совместил, на первый взгляд, несовместимое — революцию, разрушительную по своей сути стихию, и юмор. Писатель показал смешные стороны быта и нравов, казалось бы, далеко не смешного исторического времени. Он заставил людей смеяться тогда, когда им было вроде бы совсем не до смеха. Уже в ранних книгах Зощенко — «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова», «Разнотык», «Аристократка», «Уважаемые граждане» — обнаружилась его ориентация на традиции Гоголя и Чехова. Один из первых на это обратил внимание С. Есенин: «Михаил Зощенко в рассказах Синебрюхова и других своих необычайных вещах волнует нас своим необычайным и метким юмором. В нем есть что-то от Чехова и от Гоголя их ранней поры».
Ироническое отношение автора к своему герою выражалось в удивительно неповторимом сочном, комичном зощенковском языке, которым говорили его герои. Он обличал и высмеивал мещанство, обывательщину, бескультурье.
Мещанская фразеология, которой общается писатель с читателем, подчеркивает позицию чуждую самому автору. Благодаря такому приему, герои Зощенко сами предлагают себя для обозрения своего комического уродства.
Зощенко автор не только юмористических рассказов. Его волновали серьезные философские раздумья о человеке: смысле его жизни, становлении личности, самооценки каждого осмысленно прожитого мгновения. Он пишет «Голубую книгу», «Возвращенная молодость», «Перед восходом солнца». Прочитав «Голубую книгу» Алексей Максимович Горький писал: «В этой работе своеобразный талант Ваш проявился еще более уверенно и светло, чем в прежних».
В биографической повести «Керенский» Михаил Зощенко применяет протокольный стиль для сатирического изображения своего незадачливого героя. Более серьезное повествование автор посвящает жизнеописанию Тараса Шевченко. Его проба пера в драме «Опасные связи», так же как и попытка создать сценарий кинофильма «Преступление и наказание», окончились неудачно.
В 1943 году писатель закончил «Повесть о разуме», которая впервые была опубликована в 1972 году. Это философско-психологическое исследование посвящено тайнам подсознания человека, главная мысль которого заключается в том, что «разум побеждает болезнь, страдание, старость, страх смерти».
М. Зощенко был прославлен дважды первый раз в 1920-е годы, когда популярность его как сатирического новеллиста достигла своего пика. Популярность его была безгранична. Рассказы Зощенко под гомерический хохот тысяч зрителей читали с эстрады знаменитейшие артисты. Где-то в провинции постоянно обнаруживался самозванец, выдававший себя за писателя Зощенко, дабы, пользуясь его славой, срывать разнообразные цветы удовольствия.
Наделенный уникальным талантом, он стал подлинно народным писателем в послереволюционной России. В. Шкловский свидетельствовал: «Зощенко читают в пивных. В трамваях. Рассказывают на верхних полках жестких вагонов. Выдают его рассказы за истинные происшествия». «Без книжек Зощенко, — подтверждает один из его бесчисленных читателей тех лет, — не считалась нормальной ни одна поездка по железной дороге».
Второй раз имя Зощенко прошумело и привлекло к себе внимание в 1946 году, в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Необычайная популярность не уберегла Зощенко от грубой и оскорбительной критики. На смену всенародному признанию и любви пришли официальная обструкция и опала. Подлинная писательская слава перешла в славу-хулу, придав творческой биографии Зощенко резко драматическую окраску. Таков печальный жизненный итог крупнейшего писателя-сатирика советской эпохи.
Сегодня творчество писателя воспринимается с особым и неизменным интересом, поскольку злободневная тематика «поставлена на фундаментальную основу вечных проблем человеческого состояния, причем, по всей вероятности, сознательно». Время подтверждает, что Зощенко по-прежнему актуален, потому что герои его отнюдь не вымерли. Они продолжают жить, хотя и в несколько иной модификации, чем при жизни писателя, и пока нет ни малейших признаков их скорого исчезновения. Литература 1. Зощенко М. М. Рассказы. Голубая книга / М. М. Зощенко ; авт. предисл. Ю Томашевский. — М. : АСТ : Олимп, 1998. — 576 с. — (Школа классики).
2. Зощенко М. М. Социальная грусть / М. М. Зощенко. — М. : Школа-Пресс, 1996. — 768 с. — (Круг чтения: школьная программа(.
3. Муромский В. П. «Гордое и печальное имя Зощенко...»: писатель в зеркале критики / В. П. Муромский // Литература в школе. — 2008. — № 12. — С. 17-20.
4. Сарнов Б. Свифт, принятый за Аверченко / Б. Сарнов // Литература. — 1996. — С. 5-12 : ил.
 14 августа — 145 лет со дня рождения русского писателя 14 августа — 145 лет со дня рождения русского писателя
Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865 — 1941)
Мережковский родился в Петербурге. У него не было родословной. Семья переехала в столицу с Украины, где отец служил «младшим чином» в Измайловском полку под фамилией Мережко. Мальчик не любил отца, в многодетной семье чувствовал себя несчастным.
Стихи он начал писать с 13 лет. В 15 лет юный Мережковский отважился читать свои стихи Достоевскому. «Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские, жалкие стишонки, — вспоминал этот эпизод Мережковский. — Он слушал молча, с нетерпеливою досадою... «Слабо... слабо... никуда не годится, — сказал он, наконец. — Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать».
В 1880 году Дмитрий Сергеевич познакомился с популярным поэтом Надсоном, «полюбил его, как брата» и, благодаря ему, смело вступил на порог литературной жизни. Мережковскому повезло: он встречался со многими корифеями русской литературы — Плещеевым, Гончаровым, Майковым, Полонским, Короленко, Гаршиным. Своими учителями он считает тогдашних властителей дум — публициста и критика Н. Михайловского и Глеба Успенского. Под влиянием их народнических идей и бесед Мережковский отправляется «познавать жизнь». Он путешествует по Волге и Каме, посещает Оренбург и Уфу, знакомится с религиозными течениями и сектами. После окончания университета собирается «уйти в народ».
С 1885 года Мережковский печатает стихи во многих петербургских журналах и становится известным поэтом. Это совпадает по времени с появлением в русской литературе нового направления — символизма. Мережковскому стали близки постулаты его теоретиков, говоривших о тленности всего перед лицом неизбежной смерти и вечном стремлении к несбыточному. Опираясь на труды русской философии и, прежде всего В. Соловьева, он углубил и развил эти постулаты. В 1892 году вышел в свет его поэтический сборник «Символы», ставший программным для новой литературы.
К середине 90-х годов Мережковский почти перестает писать стихи, выступает как прозаик, критик, публицист, переводчик. Отходит от модернизма и декадентства и ищет «новой веры, новой жизни». Его новая идейная и творческая гавань — религиозность.
В атмосфере религиозно-философского ренессанса начала XX века Мережковский создавал свои главные произведения. Его устремления были направлены на то, чтобы заново рассмотреть основы христианской догматики, соединить русскую культуру с православной и даже шире — Вселенской церковью. Большую роль в этих воззрениях сыграла жена Дмитрия Сергеевича Зинаида Гиппиус. В своей супруге он нашел ближайшего соратника, вдохновительницу и участницу всех своих идейных и творческих исканий. Это был надежный и прочный союз. «Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность. Поддаться влиянию друг друга... Они были „идеальной парой“, но по-своему... Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой», — вспоминала Ирина Одоевцева.
В годы революционного брожения квартира Мережковских была «своего рода магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы.
Советскую власть Мережковские не приняли. Они бегут от большевиков сначала в Варшаву, а позднее в Париж. Квартира Мережковских в Париже в течение 15 лет была одним из средоточий эмигрантской культурной жизни. На «воскресеньях» у них собирался русский интеллектуальный Париж, и молодое «зарубежное поколение» любило слушать рассказы Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны о петербургском периоде их жизни.
Говорить о Мережковском, как о прозаике, трудно: он написал неимоверно много. Его первым историческим романом стала «Смерть богов», где он с музейной достоверностью реконструировал события идейной борьбы в Римской империи в IV веке. В книге «Вечные спутники. Портреты из всемирной истории» Мережковский представил много гигантов, таких, как Плиний Младший, Марк Аврелий, Монтень и другие. В 1901 году вышел его роман о Леонардо да Винчи. За исследованием «Толстой и Достоевский» последовала книга «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь, религия». В 1904 году был опубликован роман «Антихрист. Петр и Алексей».
Другие исторические романы Мережковского — «Павел I», «Александр I», «14 декабря». До революционных потрясений была написана книга «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев». Среди книг, написанных в эмиграции, можно выделить «Тайна Трех. Египет и Вавилон», «Тайна Запада. Атлантида — Европа», «Наполеон», «Данте», исследование о Жанне д’Арк, Лютере и т. д. Перечислять можно много. Томас Манн назвал Мережковского «гениальнейшим критиком и мировым писателем после Ницше». В 1933 году Мережковский выдвигался на Нобелевскую премию, но его опередил Бунин.
Дмитрий Мережковский прожил большую жизнь и, казалось бы, сделал для русской литературы очень много, но, как отмечал Георгий Адамович: «Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне ограниченным. Его мало любили, и мало кто за всю его долгую жизнь был близок к нему. Было признание, но не было прорыва, влечения, даже доверия, — в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия. Мережковский — писатель одинокий». Литература 1. Безелянский Ю. Н. 99 имен Серебряного века / Ю. Н. Безелянский. — М. : Эксмо, 2007. — 640 с. : ил.
2. Серебряный век : мемуары / сост. Т. Дубинская-Джалилова. — М. : Известия, 1990. — 672 с.
3. Соколов А. Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов / А. Г. Соколов. — М. : МГУ, 1991. — 184 с.
 наверх наверх
|
