Март 2010
 2 марта — 210 лет со дня рождения русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынского) (1800-1844) 2 марта — 210 лет со дня рождения русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынского) (1800-1844)
ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (БОРАТЫНСКИЙ)
(1800-1844)
Евгений Абрамович Баратынский родился в имении Вождя Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Отцом поэта был отставной генерал-лейтенант Абрам Андреевич Боратынский, попавший в опалу при Павле I. Мать, Александра Федоровна, урожденная Черепанова, была фрейлиной императрицы Марии Федоровны.
Правильное написание фамилии поэта «Боратынский»: основатель рода Дмитрий Божедар, или Божидар был в XIV веке владельцем замка Боратын на Львовщине. Его потомки со второй половины XIV века носили фамилию «Боратынские». С конца XVII века обосновались в России.
Евгений в четыре года уже умел читать, а в шесть лет — писать по-русски и по-французски. Мальчик был очень прилежным и послушным. Отец его писал своей сестре: «Это такой ребенок, что я в жизни моей не видывал такое добронравное и хорошее дитя».
В октябре 1812 Баратынский был зачислен в Пажеский корпус на собственное содержание. Он тяготился жизнью в корпусе и был исключен из него в 1816. Ему запрещалось поступать на любую службу, кроме солдатской.
В Петербурге он сошелся со многими литераторами. Это произошло, главным образом, через А. А. Дельвига, знакомство с которым очень скоро переросло в тесную дружбу; Дельвиг стал самым близким другом юности Баратынского. И, конечно, знакомством с Пушкиным Баратынский обязан Дельвигу. Он посещал литературные среды В. А. Жуковского, литературные субботы П. А. Плетнева. В. К. Кюхельбекер, А. И. Одоевский, А. А. Бестужев, Н. И. Гнедич — вот лишь несколько самых известных писателей, с которыми встречался Баратынский.
8 февраля 1819 поэт поступил рядовым в лейб-гвардии Егерский полк. И в эти же февральские дни в печати впервые появляются его стихотворения. Об этом позаботился Дельвиг, отдавший их в журнал «Благонамеренный». Баратынский вспоминал, что неожиданное — Дельвиг сделал это без ведома автора — появление стихов в печати произвело на него мучительное впечатление. Дельвиг и Баратынский жили на одной квартире в Семеновских ротах. Известно шутливое стихотворение, где описывается их совместная жизнь («Там, где Семеновский полк...»).
В январе 1820 по представлению великого князя Николая Павловича Баратынский был произведен в унтер-офицеры, но с переводом в пехотный Нейшлотский полк, расквартированный в Финляндии, 11 января он уезжает во Фридрихсгам к месту своей службы.
19 января Вольное общество любителей российской словесности слушает стихи Баратынского, представленные Дельвигом. Среди них — знаменитая элегия «Финляндия». Поэт был принят в члены-корреспонденты Общества. Баратынского печатают в самых известных журналах того времени: «Благонамеренный», «Невский зритель» и др.
Несмотря на известность и настоящий успех своих стихов, Баратынский сдержан в самооценке. «Мой дар убог и голос мой негромок», — так звучит первая строка его знаменитого стихотворения. Он ищет не славы, но понимания: быть может, «читателя найду в потомстве я».
Пушкин был другого мнения о Баратынском. 2 января 1822 он пишет П. А. Вяземскому из Кишинева: «...Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни, и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор, — ведь 23 года счастливцу!».
Между тем круг литературных знакомств и связей Баратынского расширялся. В литературных салонах он встречается с А. А. и Н. А. Бестужевыми, К. Ф. Рылеевым, А. М. Княжевичем и др. Печатается в «Полярной звезде». А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев начинают готовить к печати сборник его поэзии.
В апреле 1825 после неоднократных обращений на высочайшее имя Александр I подписал приказ о производстве Баратынского в офицеры. Баратынский хотел, было просить о переводе в один из полков, стоявших в Москве, но Д. В. Давыдов уговорил его подать в отставку. 31 января 1826 такое разрешение было получено.
В феврале 1826 вышли две поэмы Баратынского: «Эда, Финляндская повесть» и «Пиры, описательная поэма». Ф. В. Булгарин отрицательно отозвался об «Эде», не находя в ней ничего хорошего. Пушкин же был в восторге. Это был самый плодотворный период творчества Баратынского, продолжавшийся до 1832. Одновременно это была и счастливая пора в его личной жизни. 9 июня состоялось венчание Баратынского с Анастасией Львовной Энгельгардт. А весну, лето и осень 1827 он с женой и новорожденной дочерью проводит в имении матери, в урочище Мара.
В начале ноября того же года вышла книга «Стихотворения Евгения Баратынского» — первый сборник его поэзии, который готовили еще Бестужев и Рылеев.
В конце 1827 Баратынский возвращается в Москву и вскоре поступает на службу в Межевую канцелярию. Через три года без малого он выходит в отставку окончательно. В Москве поэт часто встречается с Пушкиным, посещает салон Зинаиды Волконской, общается с прибывшим в Москву А. Мицкевичем. Одновременно сближается с И. В. Киреевским и входит в его круг знакомств.
Тяжелым ударом для Баратынского была смерть его близкого друга Дельвига. Пушкин писал Плетневу: «Баратынский болен с огорченья».
В январе 1832 появляется первый номер журнала «Европеец», издававшийся И. В. Киреевским. Баратынский активно участвовал в этом журнале. На третьем номере «Европеец» был запрещен. Это произвело подавляющее впечатление на Баратынского. На какое-то время он перестал даже писать.
За два последующих года появились лишь два его стихотворения. Он с головой ушел в хозяйственную деятельность, занялся делами имения Энгельгардтов Каймары под Казанью. Приезжая в Москву, бывал у Киреевского, встречался с М. П. Погодиным, А. С. Хомяковым и другими славянофилами.
В марте 1835 в «Московском наблюдателе» появилось его программное стихотворение «Последний поэт»:
Век шествует своим путем железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Гибель Пушкина, по словам Баратынского, поразила его, как громом. Через три года он будет разбирать с Жуковским рукописи Пушкина и напишет жене: «Все последние пьесы его отличаются... силою и глубиною! Он только что созревал». Лишь тогда Баратынский прочитал фрагменты статьи Пушкина о нем: «Никогда не стремился он малодушно угождать господствующему вкусу... Он шел своею дорогой один и независим». И еще: он... «мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко». Конечно, и не зная этих строк, Баратынский продолжал бы творить, но нет сомнения, что эти откровения вдохновили его. В 1842, через два года после работы поэта с рукописями Пушкина, вышла в свет книга «Сумерки» — третий и последний сборник Баратынского.
Осенью 1842 Баратынские поселяются в новом мурановском доме, построенном по проекту поэта. Несмотря на хозяйственные хлопоты, Баратынский посвящает Муранову проникновенные строки.
В конце сентября 1843 с женой и тремя старшими детьми Баратынский отправился из Петербурга в заграничное путешествие. Проехав через Германию и Бельгию, поэт с семьей в конце ноября приехал в Париж. Он встречался с французскими писателями — своими литературными единомышленниками, что было едва ли не главной целью его путешествия. Баратынскому повсюду был оказан радужный прием. Он писал своим друзьям в Петербург: «Я с вами увижусь, богатый воспоминаниями».
Но этому не суждено было сбыться. Весной 1844 Баратынские отправляются морем в Италию. В Неаполе поэт скончался от сердечного приступа 31 августа 1845. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.
В своем стихотворении, написанном в 1842 по случаю посадки леса в Муранове, Боратынский, не веря в долговечность своей поэзии, надеялся,
Что некогда ее заменят эти
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети.
Баратынский ошибся. От посаженной им рощи мало что осталось, а стихи его живы и будут жить, пока жив русский язык.
У его любимой усадьбы Мураново была счастливая судьба. Несмотря на все лихолетья русской истории XIX века она до сих пор остается практически в первозданном состоянии. Ее не разграбили, не реквизировали. Потомки Баратынского, кстати, породнившиеся с другим великим русским поэтом — Ф. И. Тютчевым — успели передать усадьбу государству и остались жить там в качестве научных сотрудников дома-музея. В 1930-е их не выселили, не репрессировали. Музей не закрыли и за все время существования его посетили тысячи человек. Некоторые старожилы уверены, что Мураново и сейчас хранит добрый дух Баратынского и его поэзии. Литература: - Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы / Е. А. Боратынский ; вступ. ст., сост. и примеч. Е. Н. Лебедева. — М. : Советская Россия, 1990. — 320 с.
- Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы / Е. А. Баратынский ; предисл. К. Пигарева. — М. : Художественная литература, 1971. — 392 с.
- Песков А. М. Боратынский. Истинная повесть / А. М. Песков. — М. : Книга, 1990. — 384 с. : ил — (Писатели о писателях).
- Стеллиферовский П. А. Евгений Абрамович Баратынский : кн. для учащихся ст. классов сред. шк. / П. А. Стеллиферовский. — М. : Просвещение, 208 с. : ил. — (Биография писателч).
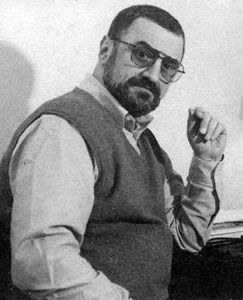 12 марта — 70 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга Григория Израилевича Горина (Офштейн) (1940-2000) 12 марта — 70 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга Григория Израилевича Горина (Офштейн) (1940-2000)
ГРИГОРИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ ГОРИН (ОФШТЕЙН)
(1940-2000)
Имя писателя и драматурга Григория Горина достаточно хорошо известно нашим читателям, а также любителям театра и кино. Успех сопутствовал ему с самого начала. Он появился в литературе как-то сразу, миновав ученический период, который весьма корректно именуется «поисками». Горину ничего не надо было искать, он доказал свое право считаться писателем, доказал, что обладает острым глазом и тонким вкусом.
Жанр сатиры и юмора полон соблазнов. Возможность рассмешить публику увлекает многих недальновидных смельчаков. Они ставят перед собой цель — добиться смеха и выбирают жанр, наивно полагая, что это зависит от них. Но все обстоит иначе. Писатель не выбирает жанр, жанр выбирает писателя. Горин понял особенность этого жанра: сатира не является самоцелью, она представляет собой только средство для изображения действительной жизни.
Горин начал как автор произведений для эстрады. Его занимала не реприза, написанная по всем правилам, рассчитанная на то, чтобы вызвать смех, а живой характер, литературный герой, глубоко исследованный, а потому четко узнаваемый. И зритель смеется не потому, что его смешат, а потому, что он узнает «героев». Вот эта радость узнавания вызывает и смех, и гнев, и печаль, и улыбку.
Григорий Горин начинал свои литературные игры, находясь в должности врача «Скорой помощи». Ничто не предвещало славы комедиографа, разве что логии с уже известными до него врачами — А. П. Чеховым и М. Б. Булгаковым. В свободное от основной работы время молодой врач остроумно играл идеями и словами, слагая из них забавные миниатюры, шутки, скетчи и репризы. Он делал вид, что его волнуют еще встречающиеся у нас порой отдельные недостатки. Сатирик-юморист тех лет имел право клеймить оружием смеха только нерадивых официантов, идиотов закройщиков и обнаглевших дворников. Горин исправно клеймил, пока не сочинил рассказ «Остановите Потапова!», который вывел его из юмористов в писатели. После первой пьесы «Свадьба на всю Европу», написанной совместно с А. Аркановым, последовал «Банкет», принесший молодому драматургу большую удачу — его спектакль в Московском театре сатиры был категорически запрещен партийной цензурой. Позднее Горин скажет устами Патрика из фильма «Дом, который построил Свифт»: «Поэтам бросают цветы, сатирикам — булыжники. Сатирик, который перестал раздражать, — кончился».
Но Горин только начинал. В 1970 году сочинил комедию «Забыть Герострата!», где мощно и зримо был заявлен его парадоксальный стиль со всем вытекающим из него горинским своеобразием. А в середине 1970-х он уже зрелый и маститый драматург, нащупывает свой собственный путь в литературе.
Сферой его пристального внимания становятся художественные произведения прошлого, которые он, как бы продолжая путь Е. Л. Шварца, искусно, с юмором пересказывает: «Тиль», «Поминальная молитва», «Чума на оба ваши дома!». Тесная дружба с выдающимся режиссером М. А. Захаровым вылилась в подлинное содружество не только театральное, но и в области кино. Сценарии почти всех фильмов Захарова были написаны Гориным: «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт». Горин является также и автором оригинальных пьес «Королевские игры», «Шут Балакирев».
Литература: - Горин Г. И. Антология Сатиры и Юмора России XX века / Г. И. Горин. — М. : Эксмо, 2006. — 736 с. : фот.
- Ширвиндт А. А. Schirwindt, стертый с лица земли : кн. воспоминаний / А. А. Ширвиндт. — М. : Эксмо, 2006. — 207 с. : фот.
 27 марта — 95 лет со дня рождения русской поэтессы Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965) 27 марта — 95 лет со дня рождения русской поэтессы Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965)
ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА ТУШНОВА
(1915-1965)
В советские времена ее сборники не лежали на прилавках книжных магазинов и не стояли на библиотечных полках. Считалось, что исповедальность ее поэзии, щемящая откровенность чувств не совсем созвучны времени коллективного энтузиазма... И даже после перестройки стихи этой поэтессы какое-то время оставались в таком же не почете у издательств России. В мире, где все рекламируется и продается, не до лирики. Вышли из моды девчоночьи тетрадки с любимыми стихами, которые записывались, запоминались, западали в душу и оставались там навсегда... Во многих подобных тетрадках можно найти и строки Вероники Тушновой:
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Почему так медлила безбожно
Почта, избавление неся?...
Тушнова принадлежала к последнему — по времени рождения — дореволюционному поколению русских поэтов. Пришедшие в мир в 1910—1916 годах, они начинали осознавать его и участвовать в его жизни уже в пореволюционное время. В двадцатые росли и взрослели быстро, все располагало к активности, к тому, что принято было, на языке эпохи, называть вмешательством в жизнь. Тем более не могли миновать этого общего настроя поэты поколения Тушновой — ведь поэты в любые эпохи созревают и проявляют себя рано. В З0-е годы все они уже многое создали, получили известность, выпустили первые книги и в полной мере испытали на себе превратности новой эпохи. «Раскулачена» и сослана семья Твардовского, а сам он едва избегает ареста, проходят через тюрьмы Ярослав Смеляков и Ольга Берггольц, по неправедному приговору расстаются с жизнью Борис Корнилов и Павел Васильев.
Тушнова не изведала ни бурного старта, ни неизбежных последствий ранней известности. Дочь известного микробиолога, училась несколько лет в медицинском институте, но не окончила его. В Литературный институт поступила в 1941 году, когда ее одногодки Константин Симонов и Маргарита Алигер уже успели его закончить. Учиться в нем не пришлось — война.
Военные годы, ставшие звездными в творчестве тех же Симонова и Алигер или чуть старшей Берггольц, Тушнова проработала медсестрой, а затем и врачом в госпиталях. Первое стихотворение опубликовала в 29 лет, первую книгу — в 30. Была замечена и привечена читателями и критикой. Но уже через три года, зачисленная в наследницы «салонной лирики Ахматовой», снова оказывается вне литературы. По-настоящему, в полную силу вернулась в нее во второй половине 50-х годов и за оставшиеся ей десять лет успела выпустить три книги: «Память сердца» (1958), «Второе дыхание» (1961) и «Сто часов счастья» (1965). Именно они вместе с посмертно опубликованными стихами и составляют главное, непреходящее в ее наследии. Находясь как бы поодаль от основного течения литературной жизни эпохи, стоя особняком в своем поколении, поэзия Тушновой, неизбежно что-то теряя, одновременно многое и приобретала. Внутренняя жизнь души, погруженность в природу, чуткость к людям и способность к самоотвержению, самопожертвованию ради близких, нефорсированная речь — все это привлекало к стихам Тушновой читательские сердца. Никогда не ходившая в фаворитах и баловнях славы, она узнала прочную и верную привязанность, во многом живую и поныне.
Думается, что стихи Тушновой найдут своего благодарного читателя и в новых поколениях. Пожалуй, их значение должно даже возрасти. Сегодня они уже не только исповедь благородной души, выстоявшей в незаметных со стороны, но от этого не менее тяжких испытаниях обычной жизни. После всего, что пережила наша страна в конце XX века, посреди все усиливающейся глобализации и урбанизации стихи Тушновой воспринимаются еще и как живая связь с нашими корнями, с непарадным повседневным существованием предыдущих поколений. Не отрицая города, не воюя с ним, Тушнова чувствовала себя дома только в сельском, деревенском доме, среди настоящей, не зарегулированной среднерусской природы: Многие реалии той жизни — от лиха в пазах до кочкарника с каемчатой травой — доносят до нас и те стихи конца 50-х — начала 60-х годов.
Песни на ее стихи исполняли самые знаменитые мастера эстрады. Они звучат в фильмах телепередачах. Мы напеваем: «А знаешь, все еще будет!..», «А ты придешь, когда темно...», «Не отрекаются любя...», иногда даже не зная, что слова этих песен принадлежат одному человеку — Веронике Тушновой. Любовь — сквозная тема, с ней связаны горе и радость, утраты и надежды, настоящее и будущее.
Литература: - индин С. И. «...с каждой строкою все больше на свете меня» / С. И. Гиндин // Русский язык. — 2005. — N 15. — С. 43.
- Обоймина Е. Н. Миг, украденный у счастья. Русские поэтессы — музы великих людей / Е. Н. Обоймина, О. В. Татькова. — М. : Эксмо, 2007. — 704 с.
- Тушнова В. М. Избранное : стихотворения и поэмы / В. М. Тушнова ; вступ. ст. А. Туркова. — М. : Художественная литература, 1988. — 543 с. : портр.
 наверх наверх
|
