Декабрь 2009 5 декабря — 100 лет со дня рождения русского писателя Николая Павловича Задорного (1909-1992)
 НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЗАДОРНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЗАДОРНОВ
(1909-1992)
Николай Павлович Задорнов родился в Пензе. Детство и юность прошли в Чите, там же он получил общее образование. Может быть, именно частые переезды в детстве и отрочестве определили потом характер писателя, пробудили «охоту к перемене мест». Еще в школе Николай Задорнов увлекся театром. В 1926-1935 был актером, затем режиссером в провинциальных театрах Сибири и Урала, много ездил с гастролями по стране. Затем журналистика...
В 23 года он стал корреспондентом газеты «Красная Башкирия». В этом качестве он объездил заводы Южного Урала, собирая материал для очерков о металлургических династиях. Поездки, встречи с людьми легендарного края, знакомство с богатой историей бывшей демидовской вотчины, скорей всего и побудили в Николае Задорнове желание поделиться с людьми своими представлениями о прошлом. В короткий срок он написал повесть «Могусюмка и Гурьяныч», в которой показал трагедию талантливых людей — русского мастера и башкирского пастуха. Волей обстоятельств они стали руководителями бунта. Но опубликована повесть была спустя почти двадцать лет — в 1956 году. Именно эта не опубликованная вовремя повесть и определила весь дальнейший писательский путь Задорнова.
Осенью 1937 года Задорнов переезжает в Комсомольск-на-Амуре Города в привычном смысле еще не было — скопище бараков и землянок теснило во все стороны тайгу. Открыли в городе и театр. Сюда Николай Задорнов приехал работать заведующим литературной частью, удачно совместив, таким образом, опыт актера и журналиста. Именно работа в театре, при всей ее суматошности, при всей невозможности распорядиться собственным временем, эта работа, как ни странно, позволяла много и плодотворно писать. В эти счастливые годы Николай Павлович успел поплавать по Амуру, исходить на много сотен верст тайгу, погостить в нанайских стойбищах и русских селах, основанных еще в прошлом веке.
Первый роман Задорнова «Амур-батюшка» появился в 1941-1946. В нем рассказывается о заселении нашими соотечественниками пространств на восточной окраине империи. Эта тема продолжена в романах «Далёкий край» (1949) и «К океану» (1949). За эти три романа в 1951 писатель получил Государственную премию СССР. Рассказывая о русских землепроходцах, писатель в то же время дает образную картину жизни коренного населения Дальнего Востока — гольдов (данайцев) и других малых народов, настойчиво проводя мысль о культурно-просветительской роли, которую играли русские. Через все сочинения Задорнова проходит мысль о прогрессивной культурной роли русского народа, который, вопреки колонизаторской политике царского правительства, завязывал с коренным населением Сибири и Дальнего Востока отношения, основанные на взаимном уважении и дружбе.
Еще работая над последними страницами «Амура-батюшки», Николай Задорнов начал собирать материал об экспедиции в Приамурье капитана Геннадия Невельского, открывшего устье Амура и много сделавшего для этой земли. Роман «К океану» был первой частью трилогии, ее продолжили «Капитан Невельской» и «Война за океан»). Чем больше углублялся Задорнов в историю первопроходцев, тем больше понимал, насколько необъятна эта тема.
Японский цикл романов Задорнова («Черные корабли с Севера») — «Цунами», «Симода», «Хэда» — рассказывает о миссии адмирала Путятина в Японию более ста лет назад, в разгар войны России против Великобритании и Франции. Целью миссии было заключение первого в истории русско-японского договора. Трилогию Задорнов писал с 1968 по 1979 год, первым в нашей литературе проникая в психологию большого, с древней культурой народа, который столетиями держал на замке все, что касалось его истории, государственного устройства, традиций и образа жизни. В середине XIX века европейцев просто-напросто не пускали в Японию. Традиционная замкнутость этой страны породила множество легенд о характере японцев. К тому же едва соприкоснувшись с европейской цивилизацией, японцы принялись воевать.
В последние годы творчества Задорнова складывались новые романные циклы: «Владычица морей» («Гонконг», «Владычица морей», «Ветер плодородия») — история соперничества России на морских путях с Англией и США и «Большие плавания». В 1991 создал комедию «Последняя попытка».
Написанию романов предшествовала кропотливая исследовательская работа писателя. Прозу Задорнова отличает бережное отношение к реальным фактам и бытовым деталям, благодаря которым воссоздается национальный и исторический колорит. В романах Задорнова много героев: Муравьев-Амурский, Невельской, Путятин, сотни реальных исторических деятелей. Но главный герой — народ. Не штыком и картечью покорял он немеренные пространства, составившие огромное приращение России. Трудом и дружелюбием к коренным народностям россияне обретали нынешние территории Забайкалья, Приамурья, Камчатки. Романы Николая Задорнова — гимн русскому духу, гимн трудолюбию, терпению и оптимизму русского народа.
Все романы Николая Задорнова переведены в Японии и Китае, некоторые изданы не один раз. Наши восточные соседи видят в писателе авторитетного исследователя их отношений с Россией, а в его книгах — многотомную энциклопедию становления этих отношений. Литература: - Задорнов Н. П. Черные корабли с Севера. Кн. 2. / послесл. В. Сухнева. — М. : Современник, 1993. — 638 с. — (Золотая летопись России).
- Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 1999. — 598 с.
6 декабря — 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, переводчика Николая Константиновича Старшинова (1924-1998)
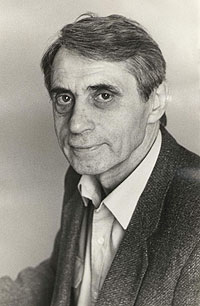 НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СТАРШИНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СТАРШИНОВ
(1924-1998)
Есть у Николая Старшинова стихотворение «Подмосковной природе»:
Не блещешь ты в прославленном кругу
Ни роскошью, ни красотою броской.
Живешь ты, осененная березкой,
То вся в ромашках звездных, то в снегу
Ни водопадов, прыгающих с круч,
Ни голубых лиманов, ни ущелий...
Лужок. Овраг. И копья строгих елей.
Пронзили низкий полог серых туч.
И сам негромко я тебя пою,
Моя отрада, и моя награда,
И жизнь моя...
Перечитывая эти строки, невольно ловишь себя на мысли, что тут выражена сама суть его поэзии, основная тональность лирики, главенствующее настроение всего творчества.
Николай Константинович Старшинов всегда чувствовал себя звеном в цепи, в дружеском кругу, ощущая себя «в строю как дерево в лесу». Очень дорог был ему опыт артельности, фронтового братства: Мети, метель, мороз, морозь,
Дуй, ветер, как назло, —
Солдатам холодно поврозь,
А сообща — тепло...
Удивительный человек — никто не чувствовал себя при нем статистом, исполнителем маленькой роли. Он расточал себя с какой-то даже радостью, словно бы на нем подтверждались евангельские слова: сберегающий душу свою потеряет ее... Он не трясся скупым рыцарем над собственной душой, оттого ее и хватало на всех. Фронтовик, после войны он работал литературным консультантом в «Известиях», стал первым редактором отдела поэзии в журнале «Юность», вел литературное объединение в Московском университете, до конца жизни возглавлял семинар в Литературном институте, был творческим руководителем на всех Всесоюзных совещаниях молодых писателей. Более двадцати лет работал редактором альманаха «Поэзия». Большой поэт, драматург, прозаик, критик, публицист, собиратель уникальной коллекции народных частушек, несколько сборников которых, были изданы в 90-е. Старшинов был еще и уникальным собирателем и составителем русской поэзии.
Закономерно, что у него так много светлых, согретых подлинной сердечностью стихов о любви, о женщине, о матери. Даже в минуту отчаяния он не любит жаловаться, и вслед за вырвавшимся признанием: «В жизни я достаточно продрог» — у него идет обязательное, сугубо старшиновское предупреждение: «Только умоляю — не сочувствуй!»
Иногда кажется, что стихам его недостает только одного: драматизма, трагического отношения к жизни, к смерти, к жестокой краткости и хрупкости человеческого существования. Но потом начинаешь понимать, что беда в нас самих, что это нам не хватает тончайшего внутреннего слуха, чтобы услышать, почувствовать гармонию мира. Гармония в самой сути творчества Старшинова. Отсюда и равновесие светлых и темных тонов в его стихах, отсюда и естественность переходов одного состояния в другое. Хотя поздние стихи поэта все больше тяготеют к новой, по-осеннему мрачноватой глубине, они, как настоящее вино, стали крепче и приобрели привкус печали и трагизма.
Тот, кто знаком с его воспоминаниями, кто читал его статьи о Блоке, Некрасове, Мартынове, Смелякове, тот открыл для себя тонкого ценителя искусства, умного собеседника, человека большой культуры и безупречного вкуса. Стали легендой доброта Старшинова и его готовность помочь другим. Старшинов когда-то написал: «Какое лицо у поэта?.. Оно быть прекрасным должно». В полной мере эти слова относятся и к нему самому, который своими стихами, своим образом жизни боролся за прекрасное в жизни и в литературе.
Окидывая взглядом, творческий путь Николая Старшинова, думая о судьбе и таланте этого человека, стоит вспомнить слова Николая Лескова, сказанные им о Льве Толстом: «Хвалить не нужно, а нужно вести с ним одну и ту же «работу совести». Литература: - Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 1999. — 598 с.
- Старшинов Н. К. Избранные произведения. В 2 т. Т 1. : Стихотворения / Н. К. Старшинов ; предисл. В. Кочеткова. — М. : Художественная литература, 1989. — 511 с.
18 декабря — 190 лет со дня рождения русского поэта Якова Петровича Полонского (1819-1898)
 ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ПОЛОНСКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ПОЛОНСКИЙ
(1819-1898)
Воистину причудлива судьба человека. Один — всю жизнь на одном месте. Никуда не стремится, не рвется, не странствует, не срывается. Все у него чинно. На долю другого, бывает, выпадает столько дорог, столько странствий, столько встреч и знакомств, событий, радостных и горестных, жизнь его делает столь причудливые зигзаги — только диву даешься.
Яков Петрович Полонский родился и вырос в Рязани. И казалась она ему тогда очень большим городом, таким, что заблудиться в нем ничего не стоит. Тихие улочки, одноэтажные дома, что на окраинах смотрят прямо в поле, патриархальный быт. Казалось, ничего не предвещало этому мальчику, рано осиротевшему, тихому и мечтательному, судьбы удивительной.
В гимназические годы уже пробудилось в нем его призвание — тяга к красоте, возвышенному, идеальному. Особенно он любил стихи славных российских пиитов — Жуковского и Пушкина. Все в них словно отвечало его складу, задевало струны романтической души. И первая знаменательная встреча, словно осенившая юношу крылом особенности и полета, произошла в гимназические годы. Знаменитый поэт, друг Пушкина, Василий Андреевич Жуковский, сопровождавший наследника престола в его поездке по России, прибыл в Рязань. В честь этого гимназист Полонский написал стихи. И удостоился одобрения, похвалы самого Жуковского. Получилось: как когда-то Пушкина благословил Державин, так Жуковский дал доброе напутствие, благословение новому поэту.
После окончания гимназии Полонский покидает Рязань, уезжает в Москву. Он поступает в университет на юридический факультет Московского университета, как и другой провинциал, орловец Афанасий Фет. Сблизило, сдружило их совсем не правоведение, а любовь к Пушкину, неодолимое притяжение к поэзии. В Москве вышел первый сборник стихов поэта, еще студента «Гаммы», отмеченный добрым отзывом самого Белинского. Отметив гражданские мотивы, Белинский абсолютно точно определил основную суть дарования молодого поэта: «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделают человека поэтом». Пройдут десятилетия, и этот чистый элемент станет основой «чистого искусства» Полонского и поэтов его круга.
Окончив университет, Яков Петрович покидает Москву и уезжает на юг, в Одессу. Именно в это самое время в Одессе служил родной брат Пушкина — Лев Сергеевич. Они довольно близко сошлись, несмотря на изрядную разницу в возрасте. Сдружила поэзия. Одесса подарила столько ярких впечатлений, что конечно рождались стихи. Одно из самых выразительных — «Прогулка верхом». Пожалуй, это был один из первых удачных опытов стихотворного очерка.
Но обстоятельства сложились так, что Полонский вскоре должен был покинуть Одессу. В поисках места, средств к существованию он отправился на Кавказ (1846-1851). Полонский поселился в Тифлисе, где служил в канцелярии наместника Грузии графа М. С. Воронцова. Это время было очень плодотворным для поэта: он создал цикл стихотворений, в котором сюжетную основу составляет судьба лирического героя — поэта («Грузинка», «Горная дорога в Грузии», «Имеретин», «Грузинская ночь» и др.). Прощанию с Кавказом посвящен цикл «На пути из-за Кавказа» (1851).
Одно из самых проникновенных стихотворений, созданных в эти годы, «Ночь» (1850), увековечено гениальной музыкой Чайковского.
Отчего я люблю тебя, светлая ночь —
Так люблю, что, страдая, любуюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!
Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..
В Тифлисе он нашел общество, почитавшее Россию и россиян. Это, прежде всего дом поэта Александра Чавчавадзе, добрый приют всех муз и россиян в течение десятилетий. И те, кто приезжал, были здесь желанными гостями. Звучали музыка, стихи, вольные речи. В то время на Кавказе было много сосланных декабристов и других вольнодумцев. Полонский особенно подружился со ссыльным поляком Лада Заболоцким.
Здесь увидел Полонский дочь Чавчавадзе, Нину, жену великого русского поэта Грибоедова, женщину удивительной красоты, кротости и обаяния. Ей Полонский посвятил прекрасные, исполненные глубокого чистого чувства стихи: В Тифлисе я ее встречал,
Вникал в ее черты:
То — тень весны была в тени
Осенней красоты!
Он вслушивался в гортанную восточную речь — и слышал в ней музыку. Его волновали сказания, предания этой страны, ее старины — и он написал стихи о царице Тамаре и о поэте Саят-Нове. Он видел такие живописные картины, что написал новый большой стихотворный очерк «Прогулка по Тифлису».
Казалось, все здесь на Кавказе дышит поэзией Пушкина, напоминает о нем — вдохновляет. Вслед за Пушкиным и Лермонтовым, русский поэт Яков Полонский сказал о нем свое прекрасное слово. Его сборник «Сазандар» — это его благодарный дар Грузии. И продолжение пушкинской традиции.
Полонский посвятил Кавказу не только стихи. Сохранились его рисунки. Они поражают каким-то прелестным изяществом, тонкостью линий, грустно-лирическим настроением. Позже он будет учиться живописи, она станет наряду с поэзией главным увлечением жизни.
Обстоятельства складывались так, что и на юге Полонский не нашел себе житейского устройства. Он получил известие о болезни отца, едет в Рязань, затем в Москву, в Петербург... Его ждут новые дороги, новые встречи — новые трудности.
В Петербурге Полонский надеялся на журналистику, но ни в газетах, ни в журналах места не нашлось. Тяжкое безденежье заставило его пойти в гувернеры. Он попал в необычное семейство — близких друзей Пушкина — Смирновым. Но отношения с хозяйкой дома не сложились, и вскоре он покинул дом. Полонский уехал за границу, побывал в Риме, Париже, увидел Европу, другой мир. Здесь он встретился с друзьями-соотечественниками — Львом Толстым, Василием Петровичем Боткиным и Тургеневым. В Швейцарии занимался живописью, даже брал уроки и с увлечением писал этюды. Он давно об этом мечтал. Был свободен и счастлив. Но средства закончились. Полонский вернулся в Россию, обосновался в Петербурге. Большинство петербургских стихотворений полно горести и печали. Многие из них созвучны пушкинским. И все же они — другие, своеобразны, самобытны, в них своя интонация, свой мотив.
Судьба, не дав Якову Петровичу Полонскому ни славы, ни званий, ни чинов, ни богатства, одарила его друзьями. Славнейшие, умнейшие мужи России — смолоду и на всю долгую жизнь — с Тургеневым и Фетом. В Петербурге судьба свела вместе в комитете иностранной цензуры трех поэтов — Тютчева, Майкова и Полонского. Их дружба была особенной — благородного свойства. Их всегда волновало высокое — и как важно, что они были хранителями пушкинского огня — так их принимали еще при жизни.
Никогда Полонский не был равнодушен к тому, чем жила передовая Россия, он активно сотрудничал в «Современнике», в «Отечественных записках». В 1880-1890-е в поэзии Полонского преобладали религиозно-мистические настроения. Сборник стихов «Вечерний звон» (1890) проникнут мотивами смерти, мимолетности человеческого счастья; здесь развились и раньше присущие ему образы ночных видений и снов. Именно в это время к Полонскому пришло признание читателей.
Обладая особенным песенным складом, лирика Полонского сама просилась на музыку. «Песнь цыганки» («Мой костер в тумане светит...») стала поистине народной песней. До сих пор звучат в исполнении лучших певцов России многие романсы П. И. Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова и других композиторов, написанные на стихи Полонского.
В истории русской поэзии Я. П. Полонский занимает особое место. Он писал в разных жанрах, но ни сатира, ни баллада, ни проза не принесли ему успеха у читателей. Только трепетная, яркая лирика очаровала и покорила русскую душу. /p> Помнишь, свежее дыханье,
Запах розы, говор струй —
Всей природы обаянье
И невольное слиянье
Уст в нежданный поцелуй.
Эта музыка природы,
Эта музыка души
Мне в иные, злые годы,
После бурь и непогоды,
Ясно слышались в тиши.
(«Ночь в Крыму»)
Судьба даровала Полонскому долголетие: он прожил, прошел почти весь «золотой век» русской литературы. Родился, когда еще был жив Пушкин, а когда уходил из жизни, уже зажигалась звезда Александра Блока. Литература: - Богданова Н. Благословение / Н, Богданова // Слово. — 1999. — N 1. — С. 13-17 : портр.
- Захаркин А. Ф. Русские поэты второй половины XIX века : пособие для учителя / А. Ф. Захаркин. — М. : Просвещение, 1975. — 255 с.
- Полонский Я. П. Проза / Я. П. Полонский ; сост., вступ. ст., примеч. Э. А. Полоцкой. — М. : Советская Россия, 1988. — 496 с.
- Тхоржевский С. С. Портреты пером / С. С. Тхоржевский. — М. : Книга, 1986. — 351 с. — (Писатели о писателях).
 наверх наверх
|
